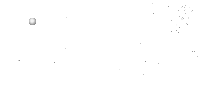
Мизинец на его руке медленно увеличивался, потом
всё быстрее и быстрее, до неразличимой бесконечности.
И ничего не было до этого.
(Ясельные сны Профессора, предвосхитившие
инфляционную модель Вселенной)
Я летел... И слышал, будто где-то далеко-далеко,
но в то же время внутри меня или рядом со мной
кто-то растет... Нет, не кто-то, не так...
("Преследователь", Хулио Кортасар)
Душ родство! о, луч небесный!
Вседержащее звено!
К небесам ведёт оно,
Где витает Неизвестный!
("Песнь радости", Шиллер в пер. Фёдора Тютчева)
 Ужас захватывал вкрадчиво, потом прибоем с отливом. Он проснулся
и стал ждать звонка. Ожидание затянулось. Рука поползла к столику,
инстинктивно нащупывая будильник. Было около 2:30 – ещё уйма времени.
Но сон улетучился. Он был в сознании, и это сознание только что вызывало Ужас.
Он вновь стал появляться лишь недавно. Профессор подцеплял его,
как он думал, когда во сне сознание отрывалось, уносилось
в бездну космоса. Оно становилось всем и ничем: ни пространства, ни времени,
так что даже пожирателям времени лангольерам там нечего было делать.
Краешек люсидного сознания сопротивлялся – возникал Ужас. Давно его
не было, и вот настиг опять.
Ужас захватывал вкрадчиво, потом прибоем с отливом. Он проснулся
и стал ждать звонка. Ожидание затянулось. Рука поползла к столику,
инстинктивно нащупывая будильник. Было около 2:30 – ещё уйма времени.
Но сон улетучился. Он был в сознании, и это сознание только что вызывало Ужас.
Он вновь стал появляться лишь недавно. Профессор подцеплял его,
как он думал, когда во сне сознание отрывалось, уносилось
в бездну космоса. Оно становилось всем и ничем: ни пространства, ни времени,
так что даже пожирателям времени лангольерам там нечего было делать.
Краешек люсидного сознания сопротивлялся – возникал Ужас. Давно его
не было, и вот настиг опять.
Последний раз Профессор испытывал его в Рочестере, десять лет назад: в изнеможении отваливаясь от рабочего стола на матрас, он проваливался куда-то как в воронку, подобную виденной им на леднике на Кавказе, в которую казалось стянет по скользкому льду, – охватывал Ужас, что он не выйдет из этого пике. Последний из таких провалов дорого обошёлся штатам.
– Пап, ты когда приедешь? - спрашивала по телефону
Котёнок, восьми-летняя Катя.
На телефоне он висел часами – и эта пропасть между Рочестером и Обсерваторией
на другой стороне шарика как будто исчезала. Он долго молчал: все обещания уже давно исчерпаны.
Надо было назвать скорый срок, а сейчас только начиналась напряжённая
фаза работы, и шефиня всё больше раздражалась,
не понимая, что он делает. Как не везёт ему с женщинами!
– В начале августа, – решился Профессор, чувствуя как заныло нутро:
шефиня не даст добро на отпуск, а его отсутствие более нескольких дней она заметит,
хотя он работал дома. Выяснять открыто отношения с шефиней у него не хватало твёрдости.
За несколько дней до вылета он сгонял в порт и купил билет на JetBlue до порта Кеннеди. Потом странное беспокойство погнало его обменять билет на первый рейс с утра: казалось бы какая разница двумя часами раньше или позже. Утром в день отъезда он уже звенел как струна. Это так контрастировало с тишиной и сонным покоем в доме, когда парни, с кем он снимал дом, ещё отсыпались после вчерашних проводин. Они прозвали его Профессором, наверное за академичность: писал научные статьи, заваривал жаркие философские споры на parties, стриптизёрш якшался, когда кутили, нализывался как положено, не в традициях Нового Света, и облёвывал укромные уголки гостинных, потому что виски всегда было дерьмовым. Профессор срывался домой, бросив всё и оставив дела в институте на авось: он обещал Kate приехать и не мог задержаться – это было бы катастрофой. "Только бы успеть, лишь бы не споткнуться", – концентрировался он. Напряжение нарастало, даже когда он уже сидел в мягком кресле самолёта, ожидая взлёта. В голове крутилось "нас не догонят". Это была дурацкая песня Тату, которой заразил Генка Валявин, вытравить её было невозможно. И Профессор отвязывался на полную катушку. "Прощайте Рочестер и Буффало, Ниагара и Онтарио, прощайте друзья сердечные", – сверху он провожал их сквозь всё мутнеющую дымку расстояния. Было что-то странное во всём, непонятное, будто крадущееся, чего стоило остерегаться: "Нельзя споткнуться. Самолёту нельзя упасть". Но, что ещё он мог понять в своём бесконечном напряжении. И тут струна лопнула – он откинулся и стал проваливаться.
Приземлились в Кеннеди, уже захваченный by black-out, как и весь северо-восток штатов. Он случился сразу после его взлёта. Друзья в Рочестере нашли это хорошим знаком для него: ведь успел выскользнуть, – и продолжили праздновать дурака, спасая от жары запасы в холодильнике, памятую ныне отсутствующего Профессора. Они кутили на столь памятной ему веранде, собрав на "коллоквиум" как обычно интернациональный бомонд. Он же застрял в Кеннеди на два дня, голодный, но воодушевлённый, проводя время в компании милой участливой старушки, вояжирующей на Байкал с мужем-ихтиологом.
Всё, "5 утра" пиликает будильник – ему пора дальше просыпаться под душем, нагуливать на целый день молодую и азартную Динку-далматинку, и может быть успеть поработать до отъезда на первую пару в университете.
В Саратове он уже десять лет. Однако город он не принимал. За городом ему нравилось больше. Он рыскал вокруг него с собратьями-туристами или в одиночку, изучая место, где привелось осесть, и искренне удивлялся, что его знакомые горожане за всю свою жизнь ни разу не бывали в тех красивых уголках края, которые он уже знал как свои пять пальцев. В город он приехал вслед за детьми, которых забрала с собой жена. С женой он развёлся. Этим объяснялось то, что за десять лет он никуда не сорвался с места. В предыдущей жизни он трижды сбегал из сумасшедшего дома в семье. Если в подобном случае его коллега по CAMK, институту астрономии в Варшаве, повесился, оставив жену и двух детей, или Герман Гессе бросил сумасшедшую жену с детьми, то слабохарактерный Профессор не разрывал до конца и возвращался после каждого побега из-за привязанности к дочерям. Он сбегал за рубеж: из Обсерватории никто не уезжал в Россию, на большую землю, если только не через заграницу, как у него и получилось в последний раз. "Буду жить рядом с Катей сколько можно, пока не вырастет, а там уеду", – зарёкся он.
Автобус подкатил к университету. Только светает. Свежесть от мороза за -20. Вороны на деревьях в парке зашевелились, оживлённые от ночной спячки стекающимися к университету людьми. В офисе холодно. Но он привык щеголять перед студентами в одной рубашке, даже когда те сидят в аудиториях в пальто и шубах: во время лекции, у доски с мелом холод не чувствуется. Прошли те времена, когда он читал курсы теоретической физики: физика стала невостребованой и набор физиков прикрыли, осталась только общая физика для ликбеза других специальностей. Да и университет – не храм науки, где её делают, как ему хотелось бы, а школа более высокого уровня. По факультетам ходили слухи о его "зверстве", что было на самом деле ничем иным, как обычной требовательностью. Преподавание он не любил, так как по натуре был мягким, а также нелестного мнения, ещё со школы, о "преподах"-стервецах, в которых они непременно должны были превращаться. Хотя, ему нравилось общаться со студентами
Лабораторка. Студенты мыкаются со сдачей отчётов. Для них
лабораторная по физике – кара небесная. С горем пополам она им зачтётся.
Редко светлая голова затешется в группе. Они как утешение, бальзам для души Профессора,
обалдевшей от бессмысленности всего этого действа. Завибрировал телефон:
– Юрий Борисович, давайте срочно в гимназию, в жюри дня науки, –
звонили из администрации. "Чёрте что, – подумал он. – Ну и организация. Ладно, шило на мыло".
Невысокого мнения он был о школьном творчестве: учителя зарабатывали
на внеучебной активности. Он каждый год учавствовал в подобных мероприятиях.
Да, были-были на них и действительно работы, но в основном шли
рефераты.
Школа – это нечто, что он стал непереваривать, уже живя в городе, из-за переживаний за Катю. Как альтернатива, ему удалось уговорить Катю пойти в художку, где было хорошее общество и занимались делом. Она потом спасибо говорила. А вот против музыкалки упёрлась. Он специально купил подержанное фортепиано, чтобы она музицировала. Лишь старшая дочь, Маша, садилась за него, в редкие наезды из другого города и радовала Профессора живым звуком. Теперь оно и вовсе молчит как Маша покинула Россию. Они разные. Маша росла в художках и музыкалках. Она была кремнем и добивалась своего. Более твёрдого "стенобитного орудия" он не встречал. Катя же смущалась и плакала, даже когда её журили пальцем. Она удивляла вечной тягой куда-то. Уже в детсадовские годы она непонятно почему стремилась в город, из уютного ему ущелья в горах. В городе Катя взапой тусовалась в разных районах города. Потом как рукой сняло это и она ушла с головой в школьную активность, носилась с Партией, добралась до президиума молодёжного форума в Кремле, обзавелась связями в правительстве области – и опять всё бросила. Он подтрунивал над её обольщением блеском. Она же считала его бомжом, но, кажется, дошла своим умом до всего, чему он хотел её научить. Город завладел ею, чумазый город кентавров с туловищем машины, ещё недавно заполонённый гопниками, город, перемалывающий людей на смазку экономических шестерёнок. Да, город он не принимал и эпатировал. Он низводил любой establishment в её глазах: ему не нравилось, что она оказывалась под влиянием мещанского мнения окружающих и официоза, совершенно не считаясь с его пекулярным мнением. Вмешивалась жена – и он брал отступной от дочери. Они были разные: он – учёный, она же перекрестилась, что вырвалась из горного "плена".
В гимназии его встретили с улыбкой. Что ж, это не хуже, чем пропадать на лабах. Ему здесь нравилось. Разноцветные стайки детей словно щебетали. Подоконники были обломаны – почему-то тоже хорошо: здесь сидят дети. В актовом зале он прошёл к отведённым жюристам первым рядам. Беспокоило, что на кафедре не утрясён вопрос с заменами его учебных пар. Автоматически хотел сесть через пустое место от женщины. Однако, он сел рядом.
Начался церемониал дня науки в гимназии. Внутренне он издевался над собой, заодно доставалось и остальным: ему непонятно каким образом в остатках сверхновых звёзд, 87-го года и в Крабовидной туманности, так быстро образовались молекулярные облака, почему образуются молекулы в поле жёсткого излучения, где казалось бы они должны разрушаться, откуда ripples в пространстве за гелиопаузой, почему спектры электромагнитных частот мозга и атмосферных резонансов Шумана похожи и ещё десяток вопросов, но он слушает полчаса имена и регалии всех гостей торжества и хлопает, против своего обыкновения. Впрочем что-то изменилось в нём и он примирился с этим великосветским бомондом, как бы видя смысл в том, чтобы его поддержать.
Потом разошлись по секциям. В классе он капризно попросил воды, т.к. традиционной для таких случаев минералки в классе не оказалось. Учительница надолго исчезла в препараторской. А когда она появилась, он уже забыл про свою просьбу и был немало удивлён, что она принесла тёплой кипячёной воды в необычной изящной кружке, которую он потом всё время вертел. Первый докладчик держался даже более чем уверенно и просвещал собравшихся на секцию физики – четырёх жюристов, учительницу, троих других докладчиков и загнанную массовку учеников – о всевозможных типах сигнализации. Вторая докладчица – о социологическом опросе через соцсети о полезности атомных электростанций, третий – о солнечной энергетике, четвёртый – о вреде микроволновой печи. Жюри участливо пообщалось с каждым докладчиком, каждый доклад вылился в оживлённый разговор по теме – всего на полтора часа. И Профессор, кажется, остался довольным, что обошлось без резонёрства, что всё не так, как быть должно. После небольшого обеда за счёт школы он и вовсе стал благодушным и с готовностью пошёл в актовый зал на церемониал вручения грамот.
Четвёрка физиков расселась на местах, где Профессор сидел
на открытие. Вызывали жюристов по секциям – те говорили подобающую речь и вручали
грамоты победителям. Профессор облегчённо вздохнул, что у них
есть молодой коллега, который взял без колебаний эту обязанность на себя:
Профессор плохо врал. Он всегда удивлялся искусству разговора жены,
умеющей приукрасить тем, чего не было, отчего у них дома
всегда были шумные компании. Да, она была душой общества. Но эта душа
искореняла всех, кого приводил он. С трибуны заговорила та, которая
сидела рядом с ним на открытие. По мере того, как она говорила,
ему становилось не по себе: она говорила не нарочито, искренне
хвалила детей, без капли ханжества. Ему стало очень неудобно за себя
и он съерничал молодому коллеге:
– Учись как надо говорить.
Дама села впереди и чуть слева от Профессора, так что был виден её профиль и как она постоянно косила голубой глаз в зал, как косится вальдшнеп на приближающегося человека, не взлетая. Он часто оглядывался на неё, как будто она смотрела на него. В душе как будто расстаял ком: он вдруг понял, что существует и другая точка зрения, более позитивная, и она тоже права, что можно принять её без ущерба для Истины и иметь fun вместе с детьми – ведь это же так просто. Хотя, в глубине его души ещё оставалось подозрение, что сами speakers не искренни. Он с готовностью хлопал и наслаждался окружающим обществом. А когда время от времени выступала школьная самодеятельность для поддержки, он и вовсе был рад, так как любил детские концерты больше, чем профессиональные, которые часто фальшивили. Соседка ушла задолго до окончания, оставив ему свой голос, голубой глаз и нос с горбинкой, как Чеширский кот свою улыбку, что он обнаружил лишь спустя много дней.
Шли дни, все как один: с 7:30 до 19 в университете и в дороге, по пять пар. Он помрачнел от того, что не может работать, не остаётся времени. Прав был Валера Сулейманов, брат по альма-матер, поучавший ещё неопытного Профессора, что делать науку в университете можно только ценой своего здоровья, и в конце-концов уехавший за наукой за рубеж.
Поздно вечером Профессор выгуливал Динку в пустом сквере.
Он то и дело опрокидывал голову к чёрному небу и смотрел на молодой месяц и яркие
южные звёзды, Ориона и Псов, приютивших также Юпитер –
вскоре его душа ощутила себя: светлую тоску – тихую радость от существования.
"Как над этим дольным чадом,
В горнем, выспреннем пределе,
Звёзды чистые горели,
Отвечая смертным взглядам,
Непорочными лучами ..."
Он вспомнил рассвет после ночи у костра на весенней охоте в десятом классе,
с отцом. Это было время, когда весна едва заметна и дурманит своей
невысказанностью, когда снег днём в тенях фиолетовый. Молодая горячая кровь
бурлила и он с азартом выслеживал, как гончая, зайцев по берёзовым колкам и ручьям.
У костра сон всегда в один глаз. Восход Венеры – предвестницы рассвета –
был замечен ещё на чёрном небе, сквозь силуэты берёз на берегу реки. За ним
последовал бледный зябкий рассвет. И какая-то шальная радость разгоралась вместе
с ним. Кончалась чёрная ночь, вечный холод и ограниченность пространства.
Отец присел у костра и пристроил к огню котелок с вечерним чаем.
– Так ты на кого всё-же собираешься учиться?
– На астрономию пойду.
– А ведь хотел стать охотоведом. – отец помолчал, подгрёб угли. –
Ну а это всё как? – он окинул широким взглядом голубые заснеженные
лес и реку, будоражащие примороженным весенним запахом, и поднял
голову к сияющей утренней радости, Венере. Профессор тоже смотрел
на одинокий белый фонарик Венеры на голубом, высоко поднявшийся над
берёзами, чтобы раствориться в сиянии неба, и его охватывала
безграничная щемящая жалость ко всему. Как будто он прощался с самым
дорогим перед тем, как переступит порог и закроется дверь.
На сон грядущий Профессор слушал любимый джаз,
Lady Day, она же Billie Holiday, проверял почту и электронные препринты.
Из редакции Astronomy&Astrophysics пришёл pdf опубликованной статьи. Он плеснул
в рюмку Плиски. "Ну и редкостный дурак попался мне рецензентом", – думал он,
закрепляя бренди победу над рецензентом и полное окончание трудов над
статьёй. – "Интересно, что думают о моих рецензиях". – Он знал, что грешен,
что он мог допустить излишнюю вольность и резкий тон: отпечаток научной школы и
семинаров в Обсерватории. Удовлетворения от статьи он уже не чувствовал.
Стало пусто, до тошноты.
"Грянет гроза – надевай калоши,
Начнётся метель – подбрось полено в камин,
Нагрянет любовь – тут уж ничего не поделаешь", – тянула вибрируя
треснувшим голосом Леди Дэй(1).
Она знала о чём поёт и выворачивала душу у других. Она прошла
через геену унижений, тюрьмы и проституцию, но сохранила ангельскую душу.
Опять он подумал о Ней, о той, от речи которой в гимназии неделю назад
он ожил и с удовольствием просидел все полтора часа, без брюзжания на
пустоту времени и на бестолковые работы школьников. Да, но почему сейчас он
жил с этой пассией в голове? Вернее, она жила внутри него, как его двойник,
с которым можно было общаться. Будто он перешёл в другую меру жизни.
И радостно и страшно от ожидавшего фиаско отрезвления. Как Её душа проникла
в его душу? Хотя это он, кажется, понимал. Тогда он не видел Её толком,
не интересовался. Но достаточно было небольшого знака, чтобы душе настроиться
на Её волну: они же сидели рядом – душа с душою говорила. Душа, что может быть
более незаметным и в то же время наиболее ценным из всего, что имеет человек.
Профессор как будто почувствовал, увидел Её душу, как будто он
увидел голограмму Её души, отделённую часть. Почему она там, внутри него? Эта загадка о душе
не давала покоя и тревожила всё сильнее, зародившись из едва уловимого,
почти не стоящего внимания, ощущения, и ныне заполонившая его полностью,
точно так же как случалось с научными идеями. Собственно это и была старая идея
о природе человеческого сознания, которая ныне раскрылась совершенно неожиданным образом.
От неё невозможно было отмахнуться. Да и не мог
он пройти мимо удивительного. Ему бы хотелось поговорить с той дамой.
Вопрос о душе мучил его давно. Что это за нечто, что поддерживает связь между людьми напрямую, между родителями и младенцем, и даже между человеком и животным? Как получается этот джудизм? Может быть мы вибрируем и наш pattern в мозге чутко откликается на это нечто? Может быть это и есть суть ноосферы? Откуда это нечто? От пульсирующего Солнца? От резонансных волн Шумана? По причине этого нечто "The bell talls on you"? И враждебность космоса, которую Профессор, казалось, чувствует, от вакуума духовности в бездонной Вселенной? спасение от которой он чувствовал в Городе, этом Солярисе души, самом великом творении эволюции Вселенной. И вот в гимназии он встретился почти физически, как укол булавкой, с Её влиянием, без всякого на то его позволения, без всяких экспериментов с телепатией с энцефалографом и Бог знает каким ещё арсеналом аппаратуры.
Вспыхнет пожар – ты уж точно знаешь как действовать,
Лопнет покрышка – покупай новую,
Придёт любовь – тут уж ничего не поделаешь, – продолжала Леди Дэй.
"А может это любовь? Старозаветная любовь. И душа здесь не при чём? А Ужас – от её исчезновения? Но к кому?!!! К "Чеширской улыбке"?!" – Мало ли он встречал прекрасных незнакомок, не оставлявших ни малейшей занозы в душе.
Он вспомнил Ленку-лису. В Варшаве – в очередной своей ссылке – он тусовался с компанией из института Коперника CAMK, и Зощей из художественной галереи – всё лето вечерили и полуночничали по паркам, пабам, night clubs, выезжали на скалы, ходили в gym на стенку, устраивали марафоны по Варшаве, на велике и роликах. Жили весело. И вот осенью в коридорах CAMK появилась и запорхала рыжая девчонка, ничем не примечательная. Он бросил компанию и привязался к ней как к магниту. Он писал ей программки, которые ей задавали, вместе ужинали, бегали по СД бутикам – она великолепно разбиралась в музыке и они много разговаривали о ней, – и спускали деньги в Irish pub. Отчасти из-за этого паба Ленка и тусовалась с Профессором: с ним она становилась центром притяжения в пабе. К овальному центральному столу подсаживалась колоритная публика. Сам хозяин приходил "отдохнуть" и угощал. Была своя "Элла Фицджеральд". Она смущала своей необъятностью и большой душой. Лезбиянка-Хемуль загадочно молчала. Пронырливый спортивный комментатор зудел вокруг Ленки как комар, как будто хотел её кровушки. Один из семёрки самых великих магов мира читал душу Патрикеевны. Профессор, утешая прогоревшего в России немца, живописал эволюцию Вселенной, на фоне которой проблемы бизнесмена самоуничижались. Подсаживались отдохнуть музыканты, скромные ребята, выделывающими такие ля, что сердца всех бились в одном ритме и жутко становилось от возникающего братства присутствующих. Профессор сбегал на велике около полуночи. А утром он шёл в кабинет с больной головой. Позже прибегала помятая Ленка и жаловалась, что все быстро разбегались, и ещё на что-нибудь, а он слушал, слушал, слушал ...
Не пытайся спрятаться – толку ноль,
Только подскользнёшься, когда твоё сердце начнёт кровоточить, – пела Леди Дэй.
Рано утром Профессор вышел на балкон чтобы "посчитать" звёзды, как некогда язвил лейтенант Ризванов, взводный. Увы, небо было закрыто. Морозило под -20. Город спал, и тишина вместе с запахом мороза расширяли сознание, делали его как бы всевидящим.
"Катя сегодня именинница, – думал Профессор. – Отделилась и почти не общаемся. А тоскую всё более". Катя училась в другом городе, религиозной философии. Было ли это случайным трудно сказать. До этого выбора она погружалась то в культурологию, то в социологию. Он критиковал её книги и фильмы и предлагал свои. И только. Никакого философского фундаментализма в разговорах. Хайдеггера, которого он читал, не предлагал. Каково же было его удивление, когда на первом курсе она сообщила ему, что прочитала Бытие и время Хайдеггера. Она захлёбывалась поэтическим кафе, ходила на квартиру его организатора пообщаться, с пьяницей, от которого ушла жена, и считала его великим философом современности. Профессор подтрунивал и посылал ей какие-нибудь тексты, нудил, что изучению религий всухую грошь цена. Но то, что из этого получилось, у него вызвало оторопь: после блужданий по многим конфессиям Катя прикипела, не на шутку, к пятидесятникам. На факультете её за это щипали. А недавно она вышла замуж. "Совсем ``хорошо``", – Профессор был обескуражен, но постепенно привыкал к случившемуся. Вместе с тем на него всё сильнее накатывало ощущение конца: он жил в Саратове и работал в университете, пока рядом жила Катя. Сейчас всё стало неважным. Он не понимал, что он делает в этом городе. Начинался новый трудовой пяти-парный день.
Шли практические занятия по физике. Записав условие задачи, аудитория погрузилась в ожидание, когда её решение появится на доске. Лишь пара студентов, легко узнаваемых по сосредоточенным лицам, билась над физико-математической головоломкой. Профессор терпеливо ожидал некоторое время, давая студентам помучиться над своим несовершенством, а затем разжёвывал решение. Тех, кто мог бы решать задачки, здесь не было. За всё время в университете он встретил не более десятка таких студентов – с ними он зажигался и забывал и про время, и про то, что это всего лишь учебные, досужие, задачи. Как правило они становились аспирантами. Некоторые из этих студентов ушли с первых курсов в МГУ. А он гордился, что ему довелось работать с ними. В начале своей работы "отцом преподобным" ему казалось, что студентов можно зажечь и организовать на великие дела, достаточно только свистнуть. Что их заряд ждёт больших дел. И с ними можно ой-ёй-ёй что наворотить. Он вспоминал свою студенческую молодость в 80-х: как они боролись с преподавателями за улучшение курсов и добивались своего, боролись за отмену военки, как набивались сотни студентов в амфитеатр физфака на острые для власти диспуты физиков, как в общаге жарко спорили за полночь за философию, устраивали сходки, и даже факельное шествие с транспарантом "Вся власть советам", тогда как она принадлежала коммунистической партии, как они добились участия студенческих представителей в учёном совете университета. Студенческая буза прокатилась по СССР из Новосибирска через Казань в Москву. Из курса Истории КПСС и других политических и экономических университетских курсов, из обширного штудирования трудов Ленина он сделал вывод об исчерпании партией и комсомолом своей исторической роли и поделился этим в стенгазете физфака. Естественно, что пришлось выйти из комитета комсомола и получить головомойку от будущей жены. На пятом курсе он уже растил дочь. Почти все они, "выступающие", были армейцами, наступила горбачёвская оттепель и страна катилась под откос.
Витавшая в аудитории лень студентов разозлила его:
– Что слышно нового о волнениях в Каракас? – спросил он исподтишка. Кто-то
что-то хмыкнул.
– Всё как обычно, – нашёлся один.
– А вы бы смогли? – понесло Профессора от индиффирентности студентов. –
Там же студенты выступают против власти, такие же как вы.
– Это же нехорошо выступать против власти, – защищался другой студент.
– Так вы считаете, что всякая власть хороша и революции 17-го года
были ошибочными? – язвил Профессор.
– Ну, это было давно. А сейчас-то всё хорошо. – "Вот так, – подумал Профессор,
– решай свои задачки".
Он хандрил. Голос его был глухой, глаза
набухшие, было ощущение словно что-то потерял, или обиды, но без боли в душе. Слабость
накатывала волнами. Он плохо понимал что с ним происходит:
"Кажется я испытываю ужас, что не встречу Её".
Слабость и предчувствие стоявшего за ней Ужаса были как сладкий яд,
которому небыло сил сопротивляться.
"Заболит голова – что ж, к вечеру пройдёт,
А уж если зуб – дуй к зубному и не жди,
Нагрянет любовь – никакие лекарства тебе не помогут", – Леди Дэй звучала внутри
как заезженная пластинка.
"Чёрт бы побрал этого мистификатора Хайдеггера", – думал Профессор, не зная за что ухватиться. Хотя Хайдеггер был не при чём. Просто он был созвучен Профессору. Хайдеггер считал, что именно Ужас является первичным источником понимания личностью своего бытия-присутствия. Но внедрить в чужое сознание ни Ужас, ни Ничто он не смог бы. Профессор уже был "заражён" экзистенцией. Он не соглашался с Хайдеггером, что человек брошен on his own: человечество связано одним пульсом. Однако, когда приходит ночь, в проблесках веры человеку необходимо выстоять.
И вот через две недели, одним утром он проснулся в полном спокойствии – ни Ужаса, ни смятения, ни мучений неопределённостью. Даже наоборот, он провалялся дольше обычного: выйдя на балкон он застал звёзды потухшими, на нежно-голубом юго-востоке блистала одна на всех королева Венера, – и спокойно, без отчаяния о потере, решил, глядя на Венеру, что найдёт Её, понимая, что даже найдя, он скорее всего потеряет Её. И тут же перенёсся на учебную программу ("пустое"), которую надо начать-и-кончить, на применение метода Байеса для группового определения экстинкции и расстояний до звёзд, подумал что надо бы выкроить время и сводить Динку в лес, где она носится бесом от радости, хокк-нуть сестрёнке на день рождения, и много чего ещё. И удивился: "Отчего мне так хорошо?"
В воскресенье за окном было -20, дул жёсткий ветер, до 10 м/с,
Солнце едва пробивалось. Профессору не работалось: в понедельник
он предполагал встретиться с Ней. Уже поздним утром он быстро собрал
рюкзачок, сгрёб лыжи и выскочил из дома. На остановке было пусто, шли редкие машины,
город едва рычал, как издыхающий зверь, устав реветь своей тысячегласой глоткой.
"Хорошо, хоть баб с пустыми вёдрами нет", – Профессор не любил поздний выход.
За городом ветер словно осатанел.
"Какой большой ветер
Напал на наш остров!
С домишек сдул крыши,
Как с молока — пену.
И если гвоздь к дому
Пригнать концом острым,
Без молотка, сразу,
Он сам войдет в стену."
Идти приходилось против ветра. От ходьбы он
скоро согрелся, но всё равно ветер казалось леденит сквозь пуховик. Срывались
снежинки, куржила позёмка, небо опрокинулось в белую "тундру", которой представлялась
степь. Он топтал и топтал снег, до изнеможения, поглядывая на белое пятно Солнца и на знакомые
ориентиры на Волчью балку – всё одно и тоже, всё одно и тоже. Время остановилось.
Через пару часов он свалился вниз в балку, в куртинку деревьев. Там было затишье.
Вскоре в снежной яме задымил костёр – это было городским развлечением
Профессора с друзьями. Сидя на валежине, он
смотрел на огонь и думал, по сути ни о чём: "Что я завтра скажу Ей? Что привиделась
мне? О душе? – это же как в психушке побывать". Обратно идти было не нужно:
ветрило работало за него, скольжение без усилий – он словно летел вместе с ветром.
По возвращении он позвонил Кате:
– Чем занимаешься?
– Только что приехали. Ходили на спектакль питерского театра: Юра купил билеты. –
И потом задумчиво – Кажется, понравилось. Я так давно не была в драмтеатре.
В последний раз я ходила с тобой. Мы тогда сбежали в антракте. Я уже и не помню
о чём. А ты был сердитый. И больше говорил о выставке картин в фойе.
– Вообще-то в старших классах ты сама всегда отказывалась, когда я предлагал
тебе сходить со мной. Ну, я рад за вас. Как учёба?
– Всё отлично. Только ... наш декан, редкий психопат, просто каждую неделю
заставляет приходить досдавать экзамен Вероучительные тексты мира. Спрашивает такие мелочи,
которые даже служители церковные не знают, а точнее не запоминают, потому что это
никак не влияет на знание Писания. Вообщем мучаюсь жутко я с этим преподавателем.
– Молодой, наверное?
– Не-ет! Это дедушка, лет под семьдесят, из ума уже выжил. А ещё очень холодно, заболела и
все никак не могу вылечиться. Опять острый тонзиллит и фарингит. А несколько дней назад ходила
на каток и каталась на коньках. Пап, денег вышлешь?
– Да, конечно, завтра же. – Почему-то вспомнилось как в Обсерватории по весне
Катю обязательно куда-то тянуло. Вероятно, из-за ощущений весенней перемены.
Тогда они шли на пикник – в хмарную погоду, с дождиком, с низкими
туманом-облаками, запечатывающими ущелье наглухо и скрывающими Мцешту.
Он захватывал спички с берестой и под
зонтиками они гуляли до археологического заповедника. Около каменной кладки, по которой
Катя любила лазать, он с трудом разжигал костерок на сырых дровах и они крутились около
него до сумерек без всякого пикника, собирая мокрый хворост в округе.
В понедельник перед переменой он стоял у Её аудитории
как на эшафоте. Вот студенты стали высыпаться из аудиторий в коридор. Возникшая толпа
быстро растеклась, а Её всё небыло. Для него время тянулось тягуче-медленно,
как во сне при наблюдении за своим падением в преисподнюю с субсветовой скоростью.
Неожиданно из-за двери появилась Она и стала удаляться. Он всё ещё наблюдал
и, как будто превозмогая чудовищные перегрузки или прыгая из другого мира в
этот ускользающий мир, окликнул Её:
– ... ?
Он смотрел как Она разворачивается, как в замедленном кино, и удивлённо смотрит на него,
и не знал что сказать. Он подошёл:
– Здравствуйте. Мы с вами сидели рядом на дне науки в гимназии. –
Она рассматривала его молча, как будто из немого кино, и всё также удивлённо. –
Вы тогда выступали с речью – я был впечатлён. Вы изменили моё настроение.
И мне хотелось бы поговорить с вами. – Она смотрела на него всё также молча и
удивлённо. И этим Она опять поражала его: он не понимал такого поведения. –
Вы любите классику?
Не согласитесь ли вы сходить со мной в филармонию? Мои девчонки не ходят со мной,
а один я не выношу – убегаю с середины. Я подумал, что если рядом с вами я просидел
в гимназии, то вы могли бы выручить меня и в филармонии.
– А что там?
– Романтика: Шопен и др. Гастролёр. Кажется талантливый.
– Я люблю классику, – Она надолго задумалась. Он начал мельтешить
и повторяться. – Хорошо. – Как будто рухнула стена. – А кто вы?
– Ах, меня зовут Юрий Борисович, я физик. Ну, я побежал на пару
в другом здании. Я позвоню. – Он почувствовал, что ещё немного и он наболтает
лишнего.
– А телефон?
– Я нашёл.
...